|
Отрывок из романа В.К. Шемякина "Хлеб и Женщины в конце времен"
|
|
Глава 6
Квартал 63
1
Государство готово их защищать — от таких старых, испорченных жизнью, как я, но вот кто защитит нас от них?..
Я иду на митинг. С утра припекает, похоже, лето будет небывало жарким. Город окончательно проснулся. Старая его часть эклектична. Приземистые дома начала прошлого века разбавлены хрущевками и свежими строениями с претензиями на русский модерн…
Дорогу мне перекрывает нестройная колонна с транспарантами и флагами, замыкает шествие карлик с кумачовым стягом, древко он держит на плече, и оно кажется для него непосильной ношей. Жалкое зрелище, колонна выглядит остатками разбитой армии, жидкая толпа траченных жизнью стариков. Скоро на заводах работать будет некому. Привет, Дохутаа! Незадолго до своей смерти Семен учредил фонд помощи обездоленным старикам и брошенным животным. Его так и называют теперь Фонд Дохутаа. Фонд влачит жалкое существование – ни старики, ни животные вниманием его не балуют, сыновья деньги вкладывать не хотят. Квартал-63 проигнорировал призыв пополнить его ряды. Хочется больше молодых лиц. Себя хватает и в зеркале.
Командует здесь заслуженная фельдшерица Лиза Некрасова, наша нестареющая пчеломатка. Старые коммунисты и коммунистки, комсомольцы и комсомолки, летом их становится меньше. В остальные времена года они оживают и по воскресеньям собираются в городском саду, прямо на выходе из парка, на скамейках расставленных прямоугольником под елками вокруг пяточка, на котором Ульяна и Леша часами переступают в такт «Сопкам Манчжурии». По воскресеньям сбор обязателен. В остальные дни собираются тоже, но как бы от нечего делать.
Рядом с вождем-фонтаном торгуют поп-корном и воздушными шариками. Ветер колышет розовых зайцев и ослепительно улыбающиеся черепа. Палатка с раскладными столами и пивом. Ваш семейный доктор. Пиво Аварийное. Безобразно обезглавленные старые тополя обросли гигантскими листьями. Стелется жирный дым шашлыка. Со стороны пустой клетки для танцев доносится бессвязный русский рэп. В нашем углу играет баян: давно ль, друзья веселые, простились вы со школою… Юные кадеты чинно вышагивают по аллее парка с барышнями в дырявых джинсах с позолотою.
Меня встречают, почтительно здороваясь. Видимо, те, кто меня мало знает, принимает за важного чиновника. В шестнадцать лет стал командиром полка? – я приостанавливаюсь и с ходу вмешиваюсь я в чей-то спор, — нашли чем удивить, а в шестьдесят – не хотите?..
Тут же отворачиваюсь от спорящих — вижу рядом Пашу. Уже по-настоящему жарко, но Паша не снимает пиджак, он старается выглядеть элегантным. Те времена, когда мужчины одевались прилично, безвозвратно ушли. Но Паша Левитан остается верен себе. Длинные светлые пиджаки, чуть приталенные, теплых тонов рубашки, мягкие галстуки и обувь из настоящей кожи. Он танцует. Может быть, не испытывая при этом азарта, но наши старые подруги любят с ним танцевать, хоть он и не красавец, не то, что я. Время добавило мне благородства в лице и осанке. А Паша, оставаясь мальчишкой (если внимательно не разглядывать его лицо) весь потемнел и внутренне сжался. Даже во время вальса, он весь закрыт, застегнут до верхней пуговицы. Но может быть, старым женщинам это и нужно.
А я совсем не люблю танцевать. Не то чтобы считаю это низким для себя, дескать, настоящие художники не танцуют под аккордеон в городском саду, статус не позволяет, вдруг кто-то увидит… Нет, статус тут не при чем. Никакого статуса. Неприятны сами прикосновения. Запахи. Плотные ощущения. Шелк. Бархат. Ватные бока. Истертые лица. Глупо-учтивые речи. Воспоминания и сожаления. Они все похожи на гроздья рябины, засохшие с прошлой осени у меня на балконе. Они похожи на творожную массу, неохотно смешивающуюся со сметаной. Они похожи на эластичные трупики кальмаров, отдающие под горячей струей рыхлые струпья кожи…
Вкус – это тактильное зрение. Так сказал молодой философ Ашкеров.
Он даже не подозревает, как подходяще выразился, ему не приходится танцевать в городском саду со старыми женщинами. Они далеко не птички. И мало походят на креветок. При мысли о черной креветке с рубиновым фонариком внутри меня так поворачивает, что я сразу же ищу скамейку, дабы (ибо!) не оскорблять взор моих скромных ровесниц.
Любимая тема – болезни. Такая напасть. Когда я сказал Лизе – сколько можно об этом! – она согласилась. Все, о болезнях ни слова, черт бы вас всех побрал, здесь не лечебница. Давайте проголосуем! Проголосовали. И все согласились. Теперь общение сделалось трудным. Под музыку хочется говорить только о близком. А что может быть ближе старому человеку, чем его болезни. Хотя можно говорить еще о внуках и огородах. Тоже тоскливые темы. Но Лизе об этом я не заикался. Было бы бесчеловечным запрещать внуков и огороды…
Сюда часто приходит мальчик лет десяти. Выглядит он стариком больше седоголового деда. Ходит, приволакивая ногу, спина сгорблена, движения заторможены. Лицо юного старичка как сморщенный плод. Под глазами дряблые мешки и склеротические жилки. Запредельно медлителен, лишен жадности, жажды, желаний – того, без чего не мыслится юность и от чего человек избавляется годами. В глазах старческая грусть. А может – мудрость, кто знает. Кушает сосредоточенно, ничего не замечая вокруг. Зовут его Бенджамин, будто в насмешку… Их все больше становится – детей стариков. Я не имею в виду синдром Хатчинсона-Гилфорда, называемый часто прогерией. Таких рождается один на несколько миллионов … Старички и среди обычных детей встречаются не так уж редко. Их легко узнать по взгляду – вдруг пронзит тебя стрела понимания всего на свете и тут же спрячется…
Начало июня, День защиты детей, о детях мы не говорим, есть более актуальные темы. Митинг. открывает Лиза. После короткого приветствия она выталкивает вперед Пашу. Бывший диктор областного радио подходит к краю деревянного помоста и открывает рот… Совсем не важно, что он говорит. Важен звук, который он извергает из себя. Его голос потрясает. Вся славная история Страны Советов предстает перед нами с первыми же словами его речи. Шумят великие стройки, гремят марши Победы, ревут ракетоносцы. Время от времени Паша фыркает и торопливо оглядывается, будто его окружают воробьи и мыши. В его словах появляется отчаяние брошенного хозяином пса, и наши сердца сжимаются.
Паша говорит о левой идее. Он производит эксгумацию. Он тащит ее из могилы. Он трясет ею перед митингом. Он держит ее под руки. Он придает ей вертикальное положение. Он пытается пугать ею противоположную вертикаль. Паша обличает средний класс. Он высмеивает его. Изничтожает собственника. Он издевается над этими грызунами, набивающими норки припасами и беспокойно вздрагивающими в спячке: не растаскивает ли кто их НЗ?! Паша грозит среднему классу голодающими массами народными, он играет желваками, и кажется, никак не может избавиться от жевательной резинки, прилипшей к деснам. Он говорит о бездомных стариках, о полчищах беспризорных детей, об обреченных на бесплодие армиях одиноких Женщин. При этих словах я живо представляю тоскующих по грубой мужской ласке несостоявшихся матерей, и ненависть к государству, неприязнь к его бездарной демографической политике пылает во мне. Паша упивается своим рокочущим голосом. Он и выступает в основном из-за желания поиграть им. И только. На самом деле левая идея его мало волнует. Это спектакль. Радиопостановка. Но этого никто не знает. Все думают, он выступает из-за преданности идеалам. Речь Паши – живая, метафоричная, бескомпромиссная наполняет наши сердца бойцовским духом. Так устроен русский язык – злоба и ненависть, извращения и фекалии – делают его ярким и доходчивым. Слова о возвышенной любви как-то не вяжутся с национальным характером. Собственно, и этот мой текст не дышит нюансами всепоглощающей доброты и нежности, хотя я и буду кричать во время своего выступления: дайте старикам любовь!
Чтобы не потерять этот мир, мы должны настоящим руководить из будущего! — продекламировал я первую фразу, отмечая про себя, как отворачивается Паша – ему неприятна моя демагогия. А сам-то, сам… Я не слушаю, что говорю. Но я вижу себя со стороны. Благородная осанка. Добротная одежда. Тонкое одухотворенное лицо. Скупой выразительный жест. Экспрессии ровно столько, сколько нужно для этой публики…
Модельной иллюстрацией может служить феномен, известный как чашка Петри. Несколько бактерий, помещенных в сосуд с питательным бульоном, безудержно размножаются, а затем начинают задыхаться в собственных экскрементах. Это наглядный образ поведения живого вещества. Недостаточность культурных сдержек делает самоубийственным возрастание потребностей по мере их удовлетворения…
Смотрю на толпу и упиваюсь собственным превосходством. На
следующее утро я изложу впечатления в дневнике старого кулинара. Чуть пафосно, но верно. Ты балдеешь от себя, говорю я себе. Ты ощущаешь, как все вокруг обожают тебя. Ты пышешь любовью, ты излучаешь свет сексуальной энергии, твоя грудь широка и твои мускулы наполнены мощью… Белье из прачечной надо сегодня забрать…
Все хотят любви, устало произношу я, спускаясь с трибуны. Раньше хотели послужить человечеству, с печалью в голосе отвечает мне Лиза.
После меня на трибуну лезет мальчик по имени Макс. Страна превращается в хоспис! – кричит он, с ненавистью поглядывая на нас, остатки России перемещаются в богодельни. Больше машин скорой помощи! Больше больниц! Основная масса избирателей становится дряхлой, она ходит по больницам и аптекам. Ей нужно суметь понравится. Да, о пожилых и немощных нужно заботиться, но не за счет будущих поколений.
Младокоммунист. Мальчик, расставшийся с детством. Мальчик-переросток. Мальчик с пальчик-зализанная голова, чуть тронутая плешивостью. Прекратите называть себя коммунистами, кричит мальчик, вы дискредитировали идею, если вы не уйдете добровольно с политического поля, мы вытесним вас силой! Щенок! – Лиза возмущена до предела, кому ты угрожаешь, сейчас позову казаков, чтоб они тебя выпороли. У самих силенок не хватит, отвечает ей мальчик, сидели бы по домам и вязали варежки для бурильщиков… Он долго еще о чем-то кричит. И ему отвечают таким же криком…
3
Мы спускаемся с Пекарем в подвал – в прежние времена здесь была рюмочная. Ничего не изменилось, хотя в рюмки здесь отродясь не наливали, только в граненные стаканы. Покрытые пластиком столы, пахнет столетним табачным настоем. По своему, респектабельное заведение. По утрам сюда набивается аристократия дна, потомственные забулдыги. Всякая шушера. Наркота. Мы пьем дешевый коньяк, отдающий йодом и обжигающий горло. Борода пекаря обретает огненно-красный окрас. Он мало говорит. Ничего – о высоком, а предназначении нашем и чем-то подобном. С ним невозможно заявить себя, это явно не проходит, надо быть проще. Мы с ним оба холостяки. Это сближает. Совсем ненадолго. На пару бутылок, не больше. Но нас это как-то сблизило.
Мне отчего-то хочется выложить этому угрюмому типу все, что творится со мной в последние годы. Так сказать историю жизни. Пунктиром. Я стал рассказывать ему, как стал холостяком. Я по-прежнему вполне дружелюбно общаюсь со своей бывшей женой. Вика даже сказала как-то, что до сих пор любит меня, но жить со мной не может, живет с другим. Я никогда не выяснял, почему. Пожалуй, я тоже ее люблю. Но вот как-то не тянет меня больше к ней. Выгорело что-то. Короче, не могли мы с Пекарем обойти эту тему. Все-таки мы были мужиками, хотя и потрепанными жизнью. Сумасшедшая она, сказал я Пекарю про свою бывшую жену. Меня всегда окружали сумасшедшие женщины, не в медицинском смысле, конечно. Какая разница, Игнат, сказал мне как-то мой папа, все они одинаковы. Одинаково устроены. Никакой разницы. Он проверял. Я тоже потом проверял. И каждый раз убеждался: мой отец был неправ – устроены они все по разному. Та, что устроена лучше всех, до сих пор мною не найдена. Пекарь никак не реагирует на эти мои слова. Секс с беременной, говорю я, это, знаешь, что-то особенное… Но я тут же осекаюсь. Пекарь – похоже, мужик довольно прямой, и вдруг ему не нравятся такие речи… Понесло тебя, сказала бы Птичка, пора включать фильтр.
Я не сплю теперь с женщинами, говорит Пекарь, точнее – сплю, но не более одного раза. Как это — трахнул и выбросил? Я ее съедаю, он говорит это как-то излишне серьезно, без малейшей улыбки. Чувствую — он не просто мрачно шутит. В этой шутке, шепчет мое внутреннее радио, какой-то реальный смысл. … Впрочем, оставим радио в покое, меня больше борода пекаря занимает – куда девалась седина?
Мы ее съедаем, говорит он, я и Кромвель. Ага, киваю я, ты что сектант? Как-то не думал. А ты и не думай, приходи ко мне в пекарню – увидишь, тем и закусим.
Надо же, думаю, юморист, помесь Райкина с маркизом де Садом, но решаю уточнить: в пекарню? Да, я сложил печь, хлеб пеку, продаю понемногу на рынке, меня уже ловили, но я старый афганец, к тому же с деревянной ногой — всегда выпускают. В милиции у нас понятливые люди, сам бы туда пошел, если бы не вот… Он стучит деревянной ногой об пол.
Ну, надо же, продолжаю изумляться я, ни малейшего представления, как пекут хлеб. Моя стихия рыба, овощи. Что-то способен делать с мясом. Но без внутреннего вдохновения. А хлеб? Это выше меня. Это колдовство какое-то. Будто мертвую природу превращают в живую. Хотя, ведь по сути – наоборот. Зерно, из которого мелют муку, оно не совсем мертвое, оно способно пустить ростки, да и мука ближе к живому, чем к мертвому, а вот поди же ты – испеченный хлеб представляется мне живым....


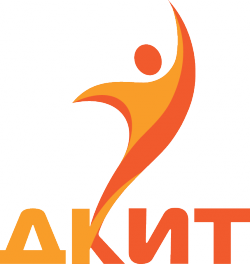
Комментарии (0)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.